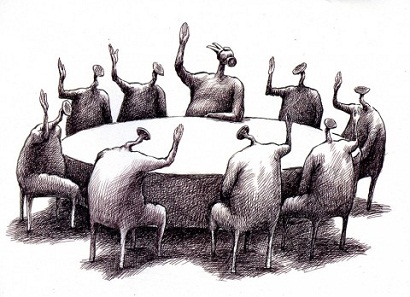Русская и китайская культуры, по большей части столь не похожие друг на друга, долгое время разделяли одно и то же отношение к литературе — как к «учебнику жизни», к писателю — как к «инженеру человеческих душ», непререкаемому моральному авторитету. Другими словами, поэт в Китае тоже «больше, чем поэт». И общество, и власть в обеих странах традиционно проявляли к нему повышенное внимание — излишний трепет, излишнюю подозрительность, излишнюю жестокость. При этом если русская литература едва ли когда-нибудь испытывала существенное влияние со стороны китайской, то китайская со стороны русской такое влияние испытала. Пристальное внимание китайцев (в том числе китайских писателей) к русской литературе, подкрепленное в свое время «братской дружбой» двух народов, хорошо известно. По данным автора рецензируемых ниже книг, их первое знакомство с русской литературой состоялось в начале 1910-х гг.[1], а более подробное — в 1920-х. Между 1917 и 1927 гг. с русского на китайский были переведены 93 книги — второе место после переводов с английского (152 книги); в 1940-е гг. количество переводов с русского занимало уже первое место. Переводческий бум начала 1920-х гг. был связан с так называемым «Движением 4 мая» (1919), которое объявило о начале «новой культуры» и частью идеологии которого было чтение зарубежной литературы.
Изучение русско-китайских литературных связей традиционно сосредоточивается на том, как в Китае воспринималась русская реалистическая традиция сперва XIX в., а затем и советского времени[2]. Однако и промелькнувший между ними модернистский «Серебряный век», с которым как раз совпало по времени открытие русской литературы в Китае, — отнюдь не был обойден там вниманием, и не учитывавшие этого работы о влиянии русской словесности на развитие современной китайской литературы представляли ее (т.е. русской словесности) открытие и распространение в Китае искаженно. Впервые восприятие современной русской литературы в Китае начала XX в. достаточно подробно рассмотрено в книге Марка Гамзы «Перевод русской литературы на китайский язык: Три исследования» (2008).
Книга Гамзы посвящена переводам трех известнейших в республиканском Китае представителей русского литературного модернизма (так определяет их сам автор книги): Леонида Андреева, Михаила Арцыбашева и Бориса Савинкова — настоящих кумиров китайской «новокультурной» сцены[3]. Во введении Гамза характеризует взаимоотношения своих героев, биографические и творческие параллели между которыми часто проводились как в дореволюционной русской, так и в китайской критике: все трое писателей принадлежали к одному поколению; все трое — хотя и не символисты, но «декаденты»[4]; все трое — эмигранты после 1917 г. (Андреев, в отличие от двух других, никуда не уезжал, однако его дом оказался на территории обретшей независимость Финляндии); все трое не приняли Октябрьского переворота и объявили себя врагами большевистского режима и т.д. Поскольку в англоязычном мире эти три автора мало переводились и до сих пор мало известны (в отличие, скажем, от Франции, где за последние двадцать лет в новых переводах вышли савинковский «Конь бледный» и ряд вещей Андреева), предпринятое Гамзой исследование переводов служит, по его же утверждению, и исследованием переведенных произведений (с. 8). По этой же причине, стоит заметить, данное исследование может быть интересно и отечественному читателю, для которого ни Савинкова, ни Арцыбашева «не существовало» долгие десятилетия. Например, обсуждающиеся в книге (с. 213—215, 220—222) рассказ Арцыбашева «Ночь» (1909) или пьеса «Война» (1914) у нас до сих пор не переизданы.
Рассматривая произведения русских модернистов и их переводы на китайский язык, Гамза избирает «стратегию погружения» (с. 8), выражающуюся в методе краткого пересказа текстов как введения в анализ их восприятия. За пересказом следует восстановление исторического, социального, политического и идеологического контекстов, окружавших появление и бытование того или иного перевода. Гамза объявляет себя последователем методологии, описанной историком английского театра Робертом Хьюмом, — контекстуального историзма, или «археоисторизма». В соответствии с нею автор движется от «документальной реконструкции» к «экстраполирующему анализу» и, игнорируя границы между текстологией, социологией и др. дисциплинами, собирает самые разнородные факты ради единственной цели — понять, каким образом создавались и интерпретировались переводы произведений русской литературы в республиканском Китае (с. 31—32)[5].
История литературного перевода, по Гамзе, сочетает в себе разбор переводов произведений и анализ суждений переводчиков, китайских писателей и читателей о значении переведенных произведений. Мнения «простых» читателей он выявляет по таким источникам, как письма в редакцию или пометы на полях библиотечной книги, тем самым позволяя читателям «говорить самим за себя» (с. 32)[6]. Что до перевода как такового, то Гамза выделяет в нем три аспекта (и рассматривает их соответственно в первой, второй и четвертой главах): 1) «техника», т.е. те или иные решения, принимаемые переводчиком в ходе работы; 2) «идеология»; т.е. мотивы, которыми руководствуется переводчик, занимаясь переводческой деятельностью вообще и выбирая при этом одни, а не другие тексты; 3) «практика», т.е. переводческая работа в ее социально-историческом контексте.
С очерка жизни Савинкова и пересказа романа «Конь бледный» начинается первая глава книги, посвященная техническим аспектам перевода романа на китайский язык через перевод-посредник. Этим последним был английский перевод романа, выполненный в 1917 г. Зинаидой Венгеровой — увы, недостаточно тщательно и к тому же по первоначальной, цензурной версии текста 1909 г., а не по второй, напечатанной в Ницце в 1913 г. Об этой новой публикации Венгерова не могла не знать, но о ней не подозревал переводчик «Коня бледного» с английского на китайский — будущий замминистра культуры КНР Чжэн Чжэньдо, не владевший русским и недостаточно хорошо знавший английский, но зато куда более верный переводу Венгеровой, чем Венгерова — оригиналу. Первая глава, самая «частная» по охвату материала, представляет собой подробный и поучительный рассказ о тех метаморфозах, которые претерпевал савинковский роман — с его эллипсисами, библейскими аллюзиями и поэтическими цитатами без указаний на источник, — путешествуя из языка в язык, из культуры в культуру, от одного переводчика к другому. Недаром эпиграфом к книге Гамзы служит словарное определение английского слова «translation», означающего не только «перевод» (с одного языка на другой), но и «перемещение» или «смещение», а ее темой названы «каналы трансляции (transmission) и непредсказуемые судьбы литературных текстов, получающих новую жизнь в иной культуре» (с. 2).
Две следующие главы посвящены вопросам рецепции и интерпретации русской литературы начала XX в. китайскими переводчиками. Гамза рассматривает их на материале четырнадцати переведенных произведений Арцыбашева, прежде всего — романа «Санин» (1907), который вошел в список самых популярных переводных книг, составленный в 1934 г. Национальной библиотекой Пекина, повести «Рабочий Шевырев» (1909), а также рассказов «Тени утра», «Ужас» (в переводе озаглавленный «Нина») и др. «Санин», появившийся в Китае в 1930 г. сразу в трех переводах, основанных опять-таки на переводе английском[7], помещается в контекст дискуссий вокруг идеи индивидуализма, которые вели китайские интеллектуалы в конце 1920-х гг., что выводит на более общую проблему идеологии переводчика. Гамза показывает, как происходит интерпретативное присвоение литературного произведения. Если приверженцы «новой культуры» были увлечены идеей индивидуализма и приветствовали роман Арцыбашева, то, согласно типично марксистской оценке одного из переводчиков, «Санин» — это «реакционная апология мелкобуржуазного индивидуализма», которую он, однако же, перевел — для того, чтобы показать «российскую тенденцию к индивидуальному освобождению» и атаковать «неистребимую этику китайского феодального общества» (цит. по с. 124). А позднейший китайский критик и вовсе видел в Санине воплощение определенного типа китайского интеллектуала-вырожденца, который появился после поражения Великой революции 1925 г. (с. 124—125). Так, с выходом на китайскую литературную сцену «левых» писателей и критиков и все большей идеологизацией взгляда на литературу неприятие современной «несоциалистической» русской литературы в конце 1920-х гг. сменилось в 1930— 1940-е стремлением все же отвести ей какое-то место, как-то приспособить ее к собственным нуждам.
От переводов — техники их выполнения и того идеологического контекста, в котором они появлялись и читались, — Гамза переходит к переводчикам. В четвертой и пятой главах на еще более обширном материале (работа сорока двух переводчиков над тридцатью пятью произведениями Андреева) воссоздается коллективный портрет переводчика русской литературы на китайский первой половины XX в. Гамза, во-первых, разрабатывает типологию переводчиков; две самые крупные категории в ней — те, кто работает из простого стремления познакомить китайского читателя с зарубежной литературой, и те, кто обращается к русской литературе исходя из своих коммунистических убеждений. Во-вторых, он подробно рассказывает о работе первого переводчика Андреева на китайский — «отца современной китайской литературы» Лу Синя[8] (он же был и первым китайским переводчиком и критиком Арцыбашева). Как и в предшествующих главах книги, источниками для Гамзы служат здесь собственно переводы, комментарии переводчиков, рецензии, многочисленные факты биографического и библиографического характера.
Хронологически исследование Гамзы ограничено первой половиной XX в. Собственно говоря, в 1930—1940-х гг. Андреева, Арцыбашева и Савинкова переводить на китайский уже перестали (а продолжили лишь в 1980-е). Это было связано, разумеется, с переменившимся в Китае идеологическим контекстом. Как и «Серебряный век» в России, китайское «Движение 4 мая» оказалось таким же «забытым», незавершенным интеллектуальным экспериментом. Например, индивидуализм арцыбашевского Санина, в полном согласии с ценностями «Движения 4 мая» превозносившийся в Китае 1920-х гг., в 1930-е был заклеймен. Лу Синь бросил переводить Арцыбашева после 1926 г., решив, что внимания достойны не эмигрировавшие, а оставшиеся в Советской России писатели (такие, например, как Александр Блок). И Арцыбашева, и Андреева, и Савинкова перестали в Китае не только переводить, но и переиздавать; вместо них объектами пропаганды стали другие русские писатели. Все это, однако, не умаляет того значения, которое имели в Китае три героя книги Гамзы — первые представители русской литературы, ассоциировавшиеся с литературной современностью.
***
«Движение 4 мая» с его «новой культурой» и «новой литературой» обновило китайскую литературную сцену, но не отказалось от традиционной для Китая идеи, что литература имеет перед собой цель нравственного порядка — воспитание читателя, совершенствование общества. В конце 1920-х гг. роль писателя продолжали видеть в том, чтобы давать ответы на социальные и политические вопросы. Ждать подобных вещей (тем более — «правильных» ответов на указанные вопросы) от «пессимистов» Савинкова, Арцыбашева или Андреева не приходилось (в этот ряд можно добавить еще одно имя — Федора Сологуба, также получившего известность в Китае). Куда более актуальной стала другая, реалистическая и (гипер)моралистическая традиция русской литературы. Вторую книгу М. Гамзы — «Прочтение русской литературы в Китае» (2010) — можно рассматривать в качестве дополнения к первой: в этой менее объемной книге речь идет о более известном предмете — восприятии в Китае литературы, которая была у нас до и после «Серебряного века» и которая объединялась рядом общих конвенций и (подчас ретроспективно вкладывавшихся в произведения XIX в. как советскими, так и китайскими критиками) идей.
Книга имеет подзаголовок: «Нравственный пример и практическое руководство» — именно такое значение, согласно Гамзе, имели в Китае русская классическая литература и советский социалистический реализм. Другими словами, в русской классике XIX в. китайские читатели находили модель личного поведения, а в соцреализме — модель коллективной революционной борьбы. Понятно при этом, что на протяжении большей части XX в. интерпретация литературы не была в Китае (как и в России) делом лишь частного читателя, критика или конкурирующих литературных журналов.
Наиболее популярными в Китае дореволюционными русскими писателями были Тургенев и Толстой[9]. Как сообщал в интервью 1981 г. известный китайский писатель и переводчик Ба Цзинь (в конце жизни возглавлявший Союз китайских писателей), именно Толстой и Тургенев первыми научили его «тому, как быть хорошим, нравственным человеком, быть честным в жизни и говорить правду читателям» (цит. по с. 57). Хорошо известны были также трое русских критиков XIX в.: Белинский, Чернышевский и Добролюбов, — от которых китайцы узнали, что литература, во-первых, отражает жизнь как таковую; во-вторых, правдиво изображает жизнь; в-третьих, служит жизни, оправдывая тем самым свое существование (с. 29). Белинский, Чернышевский и Добролюбов столь часто цитировались и упоминались вместе, что для них даже использовали специальную аббревиатуру: «Бечеду».
Усвоив три названных принципа, китайцы отождествили русскую литературу с гуманизмом, а русских классиков XIX в. приравняли друг к другу, при том что последние были удостоены персональных критических статей уже после авторов «Серебряного века». Придя к китайским читателям и критикам через переводы- посредники, их произведения были лишены своего исторического и интеллектуального контекста, отчего сами они говорили, казалось, одним на всех голосом и, в этом смысле, были похожи на «Бечеду» (с. 43). Отождествление рассказанной истории с жизнью, героев с реальными людьми, а авторов с учителями применялось в Китае к русской литературе больше, чем к какой-либо другой[10]. Это было связано и с политическими соображениями, и с общим пониманием литературы в обеих культурах; китайцы разделяли способ чтения художественной литературы, утвердившийся в России в XIX в., и читали переводы русских писателей соответствующим образом, ценя в них демократический пафос, гуманистические идеалы и т.п. Как писал первый китайский марксист и будущий основатель китайской компартии Ли Дачжао еще в 1918 г. (в статье «Русская литература и революция», оставшейся тогда неопубликованной), русская поэзия отличается двумя свойствами: сильной социальной озабоченностью и «гуманистическим» отношением к политической борьбе за свободу (с. 17—18).
Все те же достоинства нашли китайцы, конечно, и в советских книгах. В конце 1920-х гг., когда литературную сцену в Китае заняли «левые», интерес начал смещаться с классики XIX в. на социалистическую литературу Советского Союза[11], наиболее популярными представителями которой были в Китае Горький, Фадеев и Островский; вместе с ними активно популяризировалась и марксистская литературная критика. Эта тенденция продолжалась до 1949 г., когда Китай стал Китайской Народной Республикой. В годы Антияпонской и гражданской войн, согласно многочисленным свидетельствам, дух китайцев поднимали «Дни и ночи» Симонова, «Они сражались за Родину» Шолохова, «Молодая гвардия» Фадеева. Как вспоминал в 1956 г. китайский критик, «герои каждого из этих произведений стояли рядом с нами как живые, жили в наших сердцах и были образцами, воодушевлявшими каждого из нас. <...> Товарищи, сражавшиеся на фронте, доставали их [китайские переводы произведений советской литературы об Отечественной войне. — В.Т.] и читали во время прекращения огня, часто читали и обсуждали их сидя в окопах.» (цит. по с. 106). В 1944 г. сам Мао Цзэдун написал статью «Чему может научить нас "Фронт" Корнейчука», после чего департамент пропаганды китайской компартии немедленно приступил к распространению пьесы. Есть, впрочем, некоторые сомнения в том, что все это действительно читали в неграмотной крестьянской армии, — Гамза подробно рассматривает данный вопрос в главе «Мастера социалистического реализма на китайских полях сражений» (см. с. 109 и далее).
Следование советской модели было официальной политикой КНР на протяжении 1950-х гг. (в 1953 г. термин «соцреализм» был впервые применен к китайской, т.е. непереводной, литературе) — вплоть до прекращения отношений между странами в 1962 г. В годы «культурной революции» вся иностранная литература подверглась критике и стала почти недоступна; упомянутый выше Ба Цзинь был вынужден переписывать и заучивать наизусть (по-китайски) «Божественную комедию» Данте — это имело для него терапевтическое значение (с. 64). Лишь после падения «Банды четырех» в 1976 г. перевод русской литературы на китайский был возобновлен, а в конце 1980-х гг. китайский читатель — как, впрочем, и русский — начал заново открывать для себя литературу «Серебряного века» — в том числе и некогда известнейшего Леонида Андреева.
Книги Гамзы, таким образом, убедительно показывают сильнейшую зависимость перевода на китайский язык русской (и именно русской) литературы от идеологической конъюнктуры. Вместе они представляют собой не только первое в англоязычной литературе большое исследование рецепции русской литературы в Китае первой половины XX в., но и ценную работу в области сравнительной культурной и интеллектуальной истории, интересную и русскому читателю. Этот интерес связан не только с тем, что Гамза рассматривает несколько не переизданных у нас произведений Арцыбашева. Речь идет и о заметном сходстве между рассматриваемым у Гамзы сюжетом и рецепцией зарубежной литературы в условиях насаждавшейся в СССР изоляционистской культурной политики. Как не переводившиеся, так и появлявшиеся в русских переводах западные писатели часто не только лишались своего, действительно актуального для них контекста, но и встраивались в новый, навязанный им — в аннотациях, предисловиях и энциклопедических статьях. В любом случае они не воспринимались как факты иной культуры. Одним приписывался «антибуржуазный» пафос и т.п., а о других, «идеологически чуждых», и вовсе было известно лишь, что они «модернисты», далекие от «подлинно реалистического искусства». В этом смысле, например, Джойс, Кафка и Пруст были у нас своего рода «негативной» версией китайского «Бечеду».
-----------------------
1) Если не считать переложения на китайский трех басен Крылова в 1900 г. и сокращенного перевода «Капитанской дочки» Пушкина в 1903 г., которые остались тогда незамеченными.
2) См.: Шнейдер М.Е. Русская классика в Китае: Переводы. Оценки. Творческое освоение. М.: Наука, 1977; Черкасский Л.Е. Русская литература на Востоке: Теория и практика перевода. М.: Наука, 1987. См. также работу, не названную в списке литературы ни в той, ни в другой рецензируемой книге: Вэньфэй Л. Перевод и изучение русской литературы в Китае // НЛО. 2004. № 69. С. 322—328.
3) Отмечая в 1926 г., что русская литература имеет в Китае более значительное влияние, чем какая-либо другая, писатель Юй Дафу перечислял четырех самых известных в его стране писателей: Чехов, Горький, Андреев и Арцыба- шев (см. с. 33). Чехов и Горький, по Гамзе, представляют скорее реалистическую традицию.
4) Они «разделяли такие "декадентские" черты, как повышенное внимание к сексуальности и зачарованность смертью», стилизованный язык, «недоверие к прогрессу и предчувствие апокалипсического конца» (с. 4, 5). Сходным образом, и модернистский характер творчества писателей определяется Гамзой (и противопоставляется реалистической традиции) не столько по новаторским особенностям письма, сколько по свойствам идеологического порядка: нежелание учить или проповедовать; поиск вдохновения «внутри себя», а не в окружающей реальности.
5) См.: Hume R.D. Reconstructing Contexts: The Aims and Principles of Archaeo-Historicism. Oxford: Oxford University Press, 1999. Близким к тому, что предлагал Хьюм, является, по мнению Гамзы, метод Григория Кружкова, исследующего восприятие английской и ирландской поэзии в России: Кружков Г. Ностальгия обелисков. Литературные мечтания. М.: НЛО, 2001.
6) См., к примеру, на с. 197 о читательских комментариях на полях арцыбашевского «Ужаса» в одном из библиотечных экземпляров — пометах «хорошо!» напротив абзацев, описывающих протест жителей деревни против погребения героини, и «Не могу не рыдать вслух! Что за мир» на последней странице рассказа.
7) Любопытно, что и английский переводчик Арцыбашева поэт Перси Эдвард Пинкертон, в свою очередь, переводил немецкие переводы. Качество последних при этом также было порой сомнительным (см. с. 206—207).
8) Выполненные им переводы рассказов «Молчание» (1900) и «Ложь» (1901) появились в 1909 г.
9) Именно с романами Толстого познакомил соотечественников первый профессиональный переводчик в современном Китае Лин Шу. Согласно Гамзе, третье и четвертое место по популярности занимали Чехов и Достоевский.
10) Противопоставляя способность китайского мудреца совмещать конфуцианскую этику, даосистский мистицизм и соблюдение буддийских религиозных ритуалов — склонности образованных китайцев первой половины XX в. искать однозначные ответы на современные проблемы в западных книгах, которые они читали, Гамза предполагает, что эта склонность и была реакцией «новокультурного» движения, направленной против лишенного точности и ясности синкретизма традиционного мировоззрения (с. 18).
11) Вместе с тем, и прежняя литература «присваивалась» новым режимом — как в России, так и в Китае. Например, Толстой был «зеркалом русской революции» не только для Ленина (см. его одноименную статью 1908 г.), но и для напечатавшего в 1919 г. свою статью о Толстом Мао Дуня — будущего писателя и министра культуры КНР (см. с. 18).
Влад Третьяков
 Общество / Общество /
 2076 /
/ 2076 /
/
|
| Всего комментариев: 0 | |
|
| |